Лебапская область Туркменистана – один из ключевых узлов на пути современного Великого шёлкового пути, входная дверь для туристов и грузов из Китая, Кыргызстана и Узбекистана в Иран и далее на юг. Лебапский велаят — это еще и крупная приграничная зона, до древней Бухары отсюда менее 150 км. До 2002 года из Узбекистана в Фараб и Туркменабад ежедневно приезжали сотни мелких торговцев. С собой они мешками везли дешевые овощи и ягоды, выращенные на своих участках, а домой увозили ткани, мелкий рогатый скот и бытовую технику. Торговля была настолько развитой, что на базарах в приграничных районах за лук и морковь можно было заплатить как узбекскими сумами, так и манатами, а валюту соседей можно было свободно купить или продать у рыночных менял.
Чем сегодня живут жители второй по величине области Туркменистана, о чем мечтают и на что надеются? Корреспондент turkmen.news Огулджан Таирова передает из Лебапа.
Золотой век коммерции сменился Эпохой могущества бюрократии
Казалось бы, имея такое выгодное расположение на карте, местное население должно жить и процветать. Половина жителей Лебапского велаята – этнические узбеки, а торговля и предпринимательство у них в генах. В свое время Сапармурат Ниязов, понимая, что прокормить народ в тяжелые 1990-е годы не в состоянии, не препятствовал приграничной торговле. Люди крутились, как могли, начиная с челночного бизнеса и открытия мелкооптовых торговых точек и заканчивая развитием сферы транспортных услуг и общепита.
Товарооборот и развитие сервиса увеличивало и то, что у многих в Лебапе (да и в Дашогузе – также приграничной с Узбекистаном области) по ту сторону рубежа жили многочисленные родственники. Простыми словами: каждый, собираясь в Алат, Каракуль (Бухарская область) или в Карши и его пригороды (Кашкадарьинская область), обязательно закупал подарки, пользовался такси, а по дороге питался в кафе.
Туркменские коммерсанты тоже любили ездить в Узбекистан. На рубеже нового столетия, пока родина еще не научилась производить свои качественные напитки, предприниматели возили от соседей ташкентскую кока-колу и неплохое пиво «Юнусабад». В те годы туркменский рынок мог предложить только порошковые напитки «Юппи» и «Инвайт» да безвкусную RC-колу, а выбор пива ограничивался продукцией государственных пивзаводов да дорогим российским импортом. А еще из Узбекистана возили автомобильные запчасти и хозяйственные товары.
В «сытые» годы правления Гурбангулы Бердымухамедова (2007-2012), когда и газ был в цене, и покупателей за рубежом хватало, близость границы приносила местному населению дополнительный доход. Однако с началом первых признаков экономического кризиса в 2013-2014 годах власти Туркменистана пошли на странное решение – отмену безвизового проезда в приграничные районы Узбекистана.
Сказать, что решение вызвало шок – ничего не сказать. Коммерсанты в одночасье столкнулись с проблемой доставки ранее договоренных товаров и их оплаты, а простые жители Лебапа и Бухары оказались разделенными визовым режимом. И вот с осени 2013 года людям приходится ездить — одним в Ашхабад, другим в Ташкент — для оформления визы на 10 дней. Лебапцы были уверены: это временное явление, и скоро все будет, как прежде, однако и сегодня, спустя 5 с лишним лет, переход границы осуществляется только при наличии визы.
В стране не останется бюджетников
Почему сегодня, когда страна столкнулась с острым экономическим кризисом, вызвавшим нехватку основных продуктов, сродни тому, что был в ранние годы правления Ниязова, власти не ослабляют хомут, чтобы люди сами могли зарабатывать себе на жизнь? Почему граница – потенциальный источник решения финансовых проблем для многих в велаяте, остается практически неприступной?
Собеседники turkmen.news считают, что этому есть две основные причины. Во-первых, если власти вновь позволят своим гражданам пересекать границу без визы, то люди начнут массово ездить в Узбекистан, обналичивать валюту в местных банкоматах, а по возвращении домой продавать ее на рынке.
«Посчитайте сами: человек едет в Узбекистан, снимает там 100 долларов со своей карты, тратя при этом 350 манатов по госкурсу, а вернувшись, продает эти $100 на рынке, но уже за 1800 манатов, — говорит туркменабадский таксист Анвар. – Разница составляет 1450 манатов – это месячная зарплата работников школ и детсадов».
По его словам, если откроется граница, в стране не останется бюджетников, все ринутся зарабатывать легкие деньги, а государство из-за наличия двух курсов валют растеряет все свои резервы.
Но эту проблему решить легко. По мнению другого собеседника turkmen.news, предпринимателя Кемала, руководству страны достаточно уравнять два курса, что уже делалось Бердымухамедовым в мае 2008 года.
«Государство от этого только выиграло, — считает мужчина. – Во-первых, был положен конец многочисленным махинациям, которые проворачивали абсолютно все крупные чиновники и силовики, и деньги, наконец, приобрели настоящую ценность, а, во-вторых, нам, коммерсантам, стало проще с покупкой и продажей валюты».
Кемал считает, что хождение двух курсов и поныне выгодно тем, кто имеет возможность конвертировать манаты в доллары в неограниченном количестве, а это – все те же силовики и приближенные к власти бизнесмены. Однако, по его мнению, ради выгоды кучки лиц нельзя приносить в жертву все население. В страну, где с валютой творится непонятное, серьезный инвестор никогда не придет.
Предприниматель также говорит, что ради сдерживания потенциальных «валютчиков» от свободного пересечения границы не должны страдать обычные коммерсанты, вся деятельность которых сводится к принципу «тут купил – там продал».
Силовики перестраховываются
Другую причину того, почему власти не допускают послаблений в переходе границы, объясняет ветеран органов внутренних дел Сапарбай, вышедший на пенсию по выслуге лет в начале нулевых. Он считает, что за последние 10-15 лет в системе госуправления сложилась практика несения чиновниками личной ответственности за те или иные инциденты.
«Свободный переход границы – это всегда опасность контрабанды, в том числе и запрещенных веществ и препаратов, это также риск проникновения в страну уголовных элементов и экстремистов, — говорит офицер в отставке. – В конце концов, вспомните атипичную пневмонию, эболу и другие заболевания, разлетевшиеся по всему миру за считанные недели. Но в то же время, закрыться и сидеть у себя тоже нельзя. В годы нашей службы в милиции было специальное подразделение “Рубеж”. В задачи его сотрудников входила профилактика трансграничных преступлений, выявление контрабандистов и других элементов еще до того, как они совершат свое деяние».
По мнению Сапарбая, нынешние работники органов далеки от проведения профилактических мероприятий в рамках закона. Несмотря на наличие современных средств получения информации, оснащенность миграционной и таможенной служб, когда есть возможность сканировать каждую пересекающую границу автомашину на предмет запрещенных к перевозке предметов или товаров, использовать на КПП собак, натренированных на поиск наркотиков, силовикам проще запретить и закрыть. Ведь за любое происшествие в приграничной зоне ответственность понесут именно органы: не доглядели, не отработали.
«Добавьте к этому извечную конкуренцию среди различных органов: случись что по вине миграционной службы, и МВД, МНБ и прокуратура преподнесут это наверх таким образом, что министр, в лучшем случае, будет уволен с позором, а в худшем сядет. И точно так же наоборот», — говорит собеседник turkmen.news.
Таксист Анвар говорит, что граница часто закрывается задолго до наступления темноты, когда КПП «Фараб» уже не пропускает ни людей, ни грузы. Недавно, рассказал он, с партией контрабандной меди поймали нескольких жителей Балканского велаята. Медь они якобы намеревались сбыть в Узбекистане. В любой другой стране это стало бы обычным рабочим моментом, сетует водитель, но после этого случая туркменская сторона полностью закрыла границу на несколько дней. Анвару пришлось возвращаться в город, так и не встретив своих клиентов.
Вместо внутреннего развития – преследования и аресты
Лебапские предприниматели говорят, что без послаблений в пограничном режиме экономического развития ожидать не стоит. Внутренняя торговля тоже идет, но у населения нет денег, обороты минимальные. Безвизовый режим с увеличенным сроком пребывания для жителей приграничных с Туркменистаном районов Узбекистана, свободная экономическая зона «Фараб» со льготными налоговыми и таможенными условиями – об этом местные предприниматели даже не мечтают, говорят, что при нынешнем правлении это из области фантастики. Но хомут ослабить необходимо, говорят они, хуже не будет, на то в стране и имеются спецслужбы, чтобы предотвращать возможные преступления без ущерба, прежде всего, для законопослушных граждан и экономического развития.
Но спецслужбы в Туркменистане и власть имущие пока действуют с точностью до наоборот. В конце 2015 года в Туркменабаде с помпой открыли торгово-развлекательный центр «Довребап» («Современный»). Как говорили местные жители, теперь и у них появился свой «Беркарар» (самый большой ТЦ в Ашхабаде). «Довребап» построил местный предприниматель Руслан Борджаков, а спустя какие-то три года он вынужден был бежать из страны. По информации turkmen.news, его подозревали в связях с «гюленистами». Сегодня он обосновался в одной из европейских стран, начал бизнес и в Туркменистан возвращаться пока не собирается. Его торговый центр закрыт, на двери висит табличка «Скоро откроется», видимо, с новыми владельцами…
Другим предпринимателям повезло меньше. В конце октября 2016 года на 10 лет был осужден Максуд Кандымов – владелец частного пивоваренного завода «Байрамхан», ресторана «Бахар» и Дома быта. Якобы у него нашли наркотики, хотя лебапцы уверены – бизнесмен оказался строптивым и отказался платить дань новому хякиму области Чарыгельды Чарлыеву. Пивзавод так и не возобновил свою деятельность, а ресторан «Бахар» осужденного предпринимателя продолжает принимать гостей. Кто им владеет сегодня, неизвестно.
P.S. Сегодня Туркменабад – обычный советский серый город. Молодежь, которая обучается в столичных вузах, нехотя возвращается домой и тем более в районы. Скукота, всеобщая погруженность в проблемы и заботы, отсутствие времени для развлечений и самих развлечений, массовая апатия и ощущение бедности повсюду, — все это не способствует желанию строить здесь свою жизнь. Поэтому молодежи тут мало, а та, что не поступила куда-то на учебу, стремится покинуть родные места и уехать на заработки за границу. По словам местных собеседников, пятая часть трудоспособного населения Лебапского велаята выехала в Турцию и другие страны в поисках работы. А те, кто остался, работают на госпредприятиях, в системе обслуживания или на базаре. Это и все, что сегодня может предложить целый регион с упущенными возможностями.
Обновление. Ранее в материале сообщалось, что ресторан «Бахар» не функционирует, однако наши источники нас поправили. Ресторан работает, торжества в нем проходят. Turkmen.news приносит свои извинения читателям.
Все имена собеседников turkmen.news изменены. Есть, что нам рассказать? Добавьте номер редакции +31684654547 в защищенных приложениях Telegram или Signal (доступны в App Store и Play Market, в Туркменистане работают через VPN).
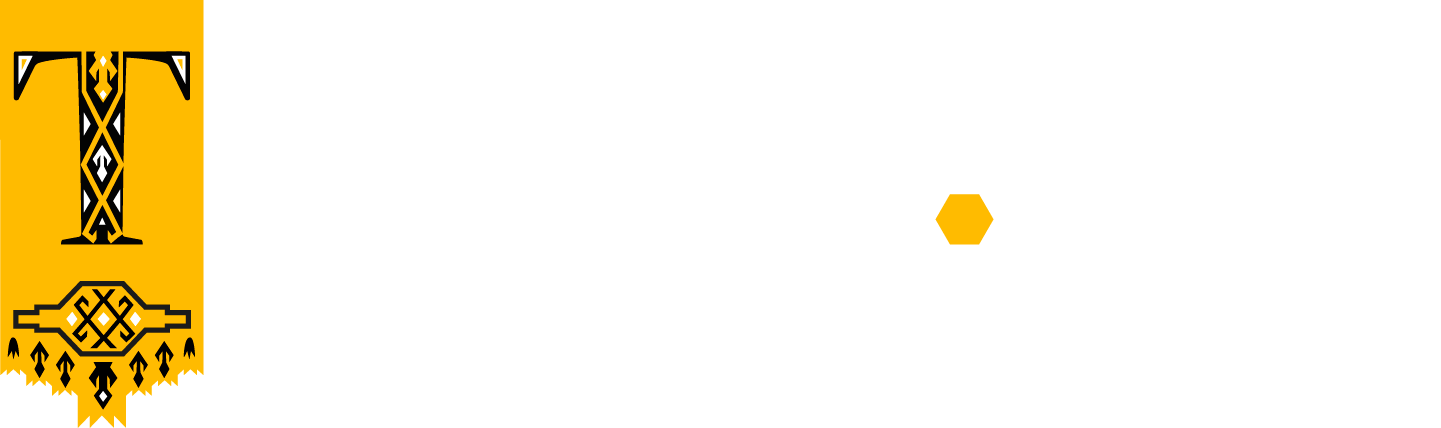




Все подмечено точно.
Жалко Чарджоу и Чарджоускую область.
Трудолюбивый там народ живет.
Центр в роли Ашхабада явно не справляется с эффективным управлением.
Увы и ах ситуация почти по всех велаятах оч плохая
Что там проjЛебап говорить. Вся страна Туркмения — это упущенные возможности. Упущены из-за ббездарного и тупого руководства. Миллиарды потратили (может, разворовали?) на железную дорогу Казахстан-Туркменистан-Иран, а дорога не работает. Опять-таки Гарлыкский ГОК взять или газопровод Восток-Запад. Замах крутой, а отдача на 5 процентов от возможностей. За такие траты (может, воровство?) сажать надо, сами знаете кого.
«Орошение пустынь. При Николае II на территории современного Туркменистана впервые проводится масштабный эксперимент по изменению пустынного климата. Здесь, в Мургабском оазисе пустыни Каракумы, с 1887 года расположилось «Государево имение» — личное хозяйство Императора. На его примере Николай II показал, что пустыня может быть покорена. В 1895 году на реке Сырдарья строится ирригационная система из плотин и каналов. Изменился климат и почва. На территории бывшей пустыни разбиты 100 га виноградников, 50 га миндальных плантаций и парки с розами. В 1909 году здесь строится одна из крупнейших в Империи ГЭС — Гиндукушская гидроэлектростанция на реке Мургаб.
Строительство дорог. В 1901 году по территории безлюдной пустыни Каракумы строится Мургабская ветвь Среднеазиатской железной дороги до границы с Афганистаном — самой южной трассы Империи.
Нефтяная промышленность. На территории Закаспийской области (нынешнего Туркменистана) развивается нефтяная промышленность. Объемы производства растут с 1894 по 1913 годы в 91 раз — с 1,4 до 127,6 тыс.т в год.» А.А.Борисюк История России, которую приказали забыть.
Политика Ниязова, Бердымухамедова что качественно дала людям и развила за последние 20 лет? Если до революции безлюдную пустыню превращали в оазис, то сегодня пустеют города, включая столицу. Не от жары прячутся люди в домах. А от страха и безнадеги.
Откуда вы взяли что половина жителей Лебаба узбеки? Хоть диалект их их отличается от диалекта других велаятов,они чистые что ни на есть туркмены.
для вас и Илья Муромец — туркмен, и Бабур — туркмен, и Моисей! Каждый народ отличается своими традициями, обычаями, обрядами и образом жизни, да и языком. Если вы хотите увидеть, кто половина жителей Лебапского велаята — приезжайте и посмотрите на наши свадьбы, на наши похороны, садака и праздники, и тогда вы не будете задавать таких вопросов. Если всех записали по паспорту туркменами и заставляют под кетени и тахей делать вид, что мы туркмены, это еще не значит, что мы потеряли свои корни. Приезжайте и посмотрите, кто живет в Чарджоу, Гаурдак, Сейди, Дейнау, Фараб, Бойныузын, Чарджевский район, Чаршанга, Керки, Достлук. Во всех этих местностях преобладают узбеки. Немало узбеков и в Дарганате и Ходжамбасе, до 20-25%. А в остальных районах абсолютное большинство — туркмены. Это — Сакар, Саят, Халач и Карабекаул.